


20-летний Данил С. (имя изменено по его просьбе) из-за череды тяжелых событий оказался в страшной депрессии и попал в психиатрическую больницу.
Студент пытался сам выбраться из того ужаса, который творила с ним его психика, но не смог. Данил решил покончить с собой. Он набросал завещание и написал нескольким друзьям, что собирается сделать. Друзья же не мешкая вызвали ему бригаду скорой помощи. Наш герой открыл врачам — здоровым мужикам в синих куртках, ломившимся в дверь. Тогда он вдруг поверил, что в жизни еще что-то можно изменить и медики ему обязательно помогут.
Но помогут ли психиатры человеку, дошедшему до грани? Что вообще может предложить отечественная психиатрия тем, кто оказался в такой страшной ситуации? Как известно, 20 июля депутаты Госдумы России приняли в трех чтениях поправки в закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». С принятием поправок государство больше не должно создавать отдельные независимые службы защиты прав пациентов психоневрологических интернатов. И фактически пациенты этих заведений остаются без защиты, ведь с их мнением никто не считается. Впрочем, прочитайте эту колонку.
Далее — рассказ Данила от первого лица.
Здравствуй, дурдом
Когда меня только привезли сюда, сразу отправили на осмотр к врачу — девушке лет 25. Видно, что она пожалела о выборе профессии не раз.
Я стал придумывать какую-то чепуху. Ну как это обычно бывает: выдумываешь, что всё это были шутки, а друзья — пресные обыватели, которые юмора не понимают. Всё еще надеялся, что меня отсюда выпустят. Ага.
Врач даже не смотрит на тебя. У нее до этого был пацан — у него на всей руке резаные раны до кости. Неудачно со шпицем поигрался. После него — девчонка с тонкой душевной организацией. Вместо половинки какой-то таблетки сожрала тридцать. «Дозировочку перепутала».
Тебя отправляют дальше по коридору, в процедурный кабинет. Там измеряют давление, дают местную униформу. Пижаму в виде рубашки, штаны из мягкой ткани и майку-алкоголичку. Дороги назад у меня не было в тот момент, когда в квартиру зашли врачи. Но осознание того, что ближайшие недели ты проведешь с «дураками» (здешние себя сами так называют, я и сам «дурак»), приходит только сейчас.
За руки выводят бабушку в ярко-желтой робе. Она не понимает, где находится. Стеклянный взгляд старушки падает то на санитаров, то на меня. Она кокетливо поправляет редкие седые локоны. Таких, как она, тут много.
— З*****я [устал] эту бздунью мыть, — басит лысый двухметровый санитар, толкая пожилую женщину. — Иди давай! — обращается он к ней.
— Гы-гы, — смеется медсестра. — «Бздунья»… — Она обращает внимание на меня. — Ну чего ты натворил? А я всё знаю, что ты сделал. Всё отсюда слышала, — упрекает она меня малопонятными предложениями.
Но ко мне сразу складывается отношение куда более человеческое, чем к этой бедной бабушке. Я сам могу натянуть штаны, и я понимаю, где нахожусь. Со мной скучно. Санитар довел меня до отделения, и так началась моя новая жизнь на бесконечные две недели.
До конца своего лечения я пролежал в четвертом, приемном отделении. Местные старожилы говорили, что меня должны были отправить в профильное отделение, но этого не произошло. Многих выписывали прямо отсюда.
«Есть хочется всегда»
Особенности «приемки» заключаются в том, что пациентам тут нельзя ничего. Нельзя выходить в коридор, громко разговаривать (зато это можно делать санитарам). Тут нет телевизора, как в других отделениях. Конечно, телефоны тоже запрещены. Запрещены посещения родственников (коронавирус, понимаете ли). Запрещено открывать форточку, даже если жара, и восьми людям в одной тесной палате «немного» душно.
Можно почитать книжку, если ты не в «наблюдательной палате». Это как обычная палата, только прав, если ты там находишься, у тебя еще меньше. Туда отправляют всех новеньких и буйных.
«Выбор литературы тут совсем небогатый. Из книг, лежащих в коридоре на тумбочке, сложно найти целый экземпляр — страницы по-живодерски вырваны»
А то, что оказывается более-менее целым, — это унылый ширпотреб. У больных тут пользуется большой популярностью Дарья Донцова — ее книги занимают большую часть местной библиотеки.
Все целые книги заняты, так что ты часами наблюдаешь за тем, как твои «однодурдомцы» выстроились в ряд и паровозиком наворачивают круги по палате. В абсолютной тишине. Дошли до стены, развернулись, идут до другой стены, и так до следующего приема пищи. Направляющий шеренги иногда предлагает мне присоединиться, но я пока что любезно отказываюсь. Это потом я пойму весь кайф таких прогулок, но в первое время просто наблюдал за ними.
Жрать хочется всегда. Кормят на удивление вкусно (плавающий в овсянке омлет — верх местного кулинарного мастерства), но еды критически не хватает. К вечеру всех начинает мучить лютый голод. Поэтому, если кому-то из палаты приносят передачку, передачка часто сразу же «взрывается» — ее варварски делят на всех. Никогда не забуду, как моя девушка принесла один тульский пряник — брусочек сантиметров 20 на 10 — и как мы его всей палатой разделывали на 8 равных кусков. Конечно, голыми руками.
Можно, конечно, не делиться — народ поймет. Но попрошайки житья не дадут.
— Дядь Сей’ож! — картавит один из пациентов. — Дадите сый’очку? Ну пожалуйста! Пей'екусить до полдника. Голод мучит.
— Дядь Сереж, а мне дадите сырочку? — вклинивается другой.
— Дядя Сережа, пожалуйста…
«Диктатура санитариата»
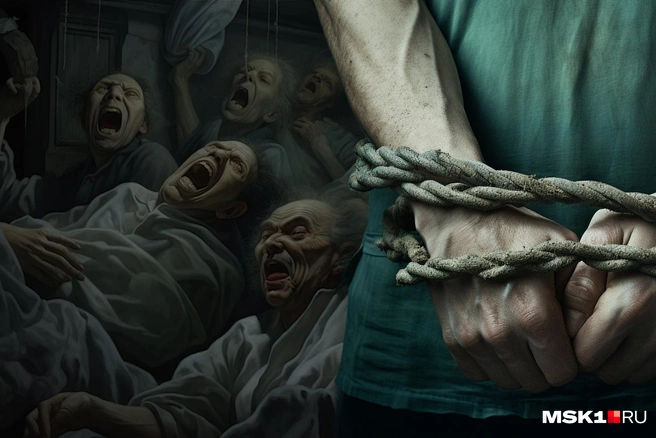
День второй. На часах было шесть, пациентам в это время разрешается позвонить родным. Конечно, с местного стационарного телефона — свой смартфон в руки никто не даст. Парень из моей палаты позвонил своей девушке. На каком-то моменте санитар вырвал из рук пациента телефон и матом отправил его в палату. Потом он зашел к нам и начал орать на парня. Его претензия заключалась в том, что тот сказал слово «врачиха», а это, мол, неуважительно и слова вообще такого нет.
— В словарях «врачиху» можно найти, — решил вступиться за человека.
— Рот закрой! — посмотрел этот поборник русского языка на меня своими выпученными, налитыми кровью глазами. Возвращается к парню: — Когда ты зво́нишь отсюда, ты должен говорить правильно и с уважением к врачам, которые тебя лечат! Понял?
— Понял, понял, — соглашается паренек, лишь бы от него отстали.
Бык поворачивает голову на меня. Замечает у меня подвернутые рукава на рубашке.
— Слышь, это че?.. Это че?! Это госодежда! Это госодежда!!!
«Он бросается на меня, хватает мою руку и начинает разворачивать рукав, повторяя про незыблемость государственного имущества»
Я зачем-то начинаю от него отмахиваться. За этой комедией наблюдает вся палата. Затем он почему-то стал кричать, что воевал в Чечне.
— Это госодежда! — забвенно повторяет лысый бык. — Она не твоя! Не имеешь права!
Он сильнее, но и я не уступаю. Продолжалось всё секунд 30. Санитар от меня отлип, не добившись своего. Я поправил рубашку, отдышался, и через минут 10 меня перевели в наблюдательную палату.
Наблюдательных палат в отделении три. Есть условное разделение между ними. В одной держат новеньких, во второй — буйных, в третьей — совсем не понимающих, что происходит. Стариков в глубокой деменции, например. Я оказался в палате для буйных.
Там был старик, которого возненавидел весь медперсонал. У него была благородная зачесанная назад седая шевелюра и борода, как у Маркса. И очень гордый, проницательный, глубокий взгляд. Я невольно любовался им.
Этот человек каждые 5 минут выходил в туалет. Санитары вообще очень болезненно относятся к тому, что ты выходишь из палаты чаще, чем раз в час. Сразу же ловишь от «лысой морды» упрек: «Че шляешься?»
И вот этот дед стал головной болью для всех санитаров. Сначала на него просто орали и материли. Волокли обратно на кровать, когда он пытался выйти в коридор. Они заставили стульями выход из палаты, строго-настрого запретив ему вставать. Воля деда не была сломлена, и каждый раз, когда санитары отставали от него, он начинал свое шествие до уборной вновь. Это был немой протест.
А потом на него натянули подгузники, отправили в палату для невменяемых и из его кровати сделали что-то вроде люльки, из которой пожилому человеку невозможно было выбраться самому. Его обрили. На пол он мог спуститься только под надзором санитаров, и вне палаты его возили только на инвалидной коляске, запретив выходить самостоятельно. Всё время он мог только лежать. Иногда его выкатывали в коридор к посту санитаров, чтобы «пообщаться».
— А как тебя зовут? А ты откуда? Гы-гы-гы. А как у тебя дела? Гы-гы-гы… А как тебя зовут? — повторяют идиотские вопросы по кругу два лысых амбала в серых футболках. Смакуют победу над старым человеком. Старик молчал.
Вообще, главный объект ненависти местных работников — это были старички, которые даже не понимают, что происходит. Санитары кричали на них и толкали, если пожилой человек мог, например, обмочиться. Или не понять какого-нибудь их приказа. Чаще над ними просто издевательски подтрунивали.

Зато они боятся реально нездоровых людей, у которых начинает ехать крыша. Они два часа боялись подойти к разбушевавшемуся пациенту, который начал орать и кидаться на других, когда они нам запретили звонить по телефону. В общем, здесь всё решают санитары — бывшие зэки или военные.
Санитары курят в душевой. Могут запретить позвонить родным: «Мы не телефонная будка и не обязаны». Унижают и оскорбляют больных. Не дают спать ночью, громко разговаривая в коридоре.
Могут зайти в палату и начать докапываться до не понравившегося пациента:
— Ты че тут? Ты понимаешь, что ты никто? Ты знаешь, сколько тебе лет, а сколько мне? Ты чего-нибудь в жизни добился? Ты понимаешь, что ты маменькин сынок? — и всё это, конечно, на матах и с самой быдлячьей тональностью.
Если пытаешься делать им замечание, качать права, перечить — бегут жаловаться на тебя лечащему врачу. И что, вы думаете, делает лечащий врач? Вступается за пациента? Нет. Он вносит коррективы в твое лечение. Так меня однажды накачали аминазином, когда я огрызнулся на очередную грубость санитара. Объяснил ему, что он тут вообще-то персонал, а не царь-бог.
Хлорпромазин (торговое наименование «Аминазин») — мощное антипсихотическое средство (нейролептик). В психиатрической практике его применяют при психомоторном возбуждении у больных шизофренией, он ослабляет бред и галлюцинации, уменьшает аффективные реакции: тревогу, беспокойство, а также понижает двигательную активность. В «Википедии» сообщается, что в странах ЕС его применение прекращено с середины 1990-х годов из-за высокой нейротоксичности и огромного числа побочных эффектов.
От аминазина я потерял зрение, начался неконтролируемый тремор. У меня не было сил дойти до туалета, но это и не нужно было. Я потерял возможность к мочеиспусканию на несколько дней после того, как меня накачали препаратом. Но у меня не пропали позывы — я не мог сходить в туалет, несмотря на лютую боль в мочевом пузыре. Попросил мочегонное — оно не помогло. Казалось, что каждая клетка в моем теле бьется в судорогах. В голове крутилась одна мысль про то, что я сейчас сдохну и наконец-то мне станет легче.
«Я не понимал, что со мной происходит: то ли засыпал, то ли терял сознание, и с каждым пробуждением мне становилось хуже»
А лица моих «сопалатовцев» становились всё тревожнее из-за моего состояния. Овощное состояние оказалось вот таким — мучительным и долгим, неописуемо ужасным. От препарата я отходил еще несколько дней.
Все санитары здесь ходят с перевернутыми бейджиками. Смеются, если требуешь назвать свои имена. Видимо, всё же боятся жалоб. В палате мы их называли «гестаповцами» и «эсэсовцами».
Чаще всего они едут из Подмосковья. Приезжают сюда на суточные смены. У многих — тюремное или военное прошлое. Санитарки — того же злого и жестокого племени. Также ненавидят больных, но сами в конфронтации не вступают, поддакивая мужикам.
Был один-единственный санитар, который не обижал нас. Молчал, когда нас материли все его коллеги. Он нерусский. Сначала я было поверил в его человечность, но один пациент поделился наблюдением, что он просто не может высказаться на русском языке. Просто не может нас унижать.
Еще двое москвичей, Дэниэль К. и Илья Ш., лечившихся в «Ганнушкина», подтвердили MSK1.RU, что насилие над больными в стенах психбольницы не редкость.
Медицинский персонал

Самые хорошие люди в больнице — медсестры и медбратья. Они как будто излучают добро и позитив, особенно в сравнении с «гестаповцами». Их ты видишь гораздо реже, чем санитаров: на раздаче таблеток или во время медобследований, но всё равно. Им — уважение за лояльность к «дуракам».
Самые неоднозначные люди — врачи-психиатры. Если повезет, они раз в день придут на тебя посмотреть. Они особо не вникают в порядки, которые устанавливают санитары, и чаще всего на больных им глубоко плевать. Есть хорошие врачи, которые общаются с твоими родственниками, друзьями, с тобой — контролируют лечение. Мне повезло попасть к такой, но потом ее перевели в другое отделение. Назначили другого врача с тотально безучастным лицом. По ее назначениям у нас вся палата ела один базовый антидепрессант. Мое лечение она дополнила аминазином после стычки с санитаром.
Психиатрам верить не стоит. Даже хорошим. Если они назначают дату осмотра психологом, будьте уверены, что этот осмотр произойдет спустя минимум неделю назначенного срока. «Выпишем в понедельник», — заявляет она. Не верьте. Минимум в пятницу следующей недели.
Два раза за две недели меня посмотрели психологи. Я порешал какие-то тесты с вопросами типа: «Вы испытываете грусть? Да/нет» и какие-то задачки на логику и на выбор любимого цвета. Вроде прикольные ребята, но в больнице они не водятся. Их откуда-то вызывают, и ты должен их бесконечно ждать. А без их осмотра тебя, как я понял, выписать из больницы не могут.
Оттепель. Контингент

Со мной лежали алкоголик-писатель, бывший учитель биологии, бывший учитель музыки и беззубый бывший уголовник, который мотал срок в Донбассе. У последнего были ВИЧ и туберкулез, благо закрытый, и он этим очень гордился. Вечно попрошайничал еду и доедал всё за всеми в столовой. Еще была пара двадцатилетних парней, которые хотели покончить с собой. Молодых ребят в нашем отделении вообще было много. Большую часть времени я лежал в этой компании, и наша палата очень подружилась.
Мы обсуждали культуру, политику (в психбольнице-то, почему бы и нет?), осточертевших санитаров, всячески откровенничали. Нам было даже весело. И да, о своем состоянии до дурдома я забыл. Мне было хорошо.
Нас пугала тишина в других палатах. Там никто ни с кем не разговаривал. Днями ходили друг за другом, выстраиваясь в паровозик, либо листали Донцову. Кто-то говорил, что такое единение, которое произошло у нас, — случайная редкость.
«Санитаров боятся все, "ведь лучше стерпеть, чем валяться под нейролептиками". Но наша палата умудрилась сколотить свою ячейку гражданского общества»
Мы не боялись, например, просить болтать их ночью потише. И презрительные взгляды, сопровождаемые грубостями, связанными с темой секса, сменились выполнениями таких мелких просьб.
В общем, больных людей тут презирают. Относятся как к преступникам. Но я не могу понять, за что? Мы в палате обсуждали местный режим, я сравнил его с тюремным.
— Не, ты не прав, — сказал Руслан, уголовник из Донбасса. — В тюрьме чифирить, курить можно. Прогулки есть. В тюрьме свободней…
С Данилом С. сейчас всё в порядке. Говорит, что ему получилось выкарабкаться из депрессии. Признается, что дурдом всё же спас его от самоубийства. За желтыми стенами он что-то переосмыслил в этой жизни.
Должны ли психиатрические больницы быть более открытыми?
Редакция MSK1.RU направила запросы в московскую психиатрическую больницу № 4 им. П. Б. Ганнушкина и департамент здравоохранения с просьбой ответить на жалобы Данила С. и требованием разобраться в сложившейся ситуации.
Особое мнение
Основательница благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер выступила против упразднения статьи 38 и против отдельных поправок.
— В той редакции, которая предлагается в 46-й статье, нет общих требований к правилам работы, а мы слышали и знаем, что на протяжении 30 лет норма 38-й статьи не работала именно потому, что регионы не знали, как с этой нормой работать, — заявила она.
Также Федермессер уточнила, что в 46-й статье прописан общественный контроль, а 38-я статья устанавливает защиту прав, что является разными понятиями.
Комментарий специалиста
Итак, 20 июля депутаты Госдумы России приняли в трех чтениях поправки в закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». С принятием поправок государство больше не должно создавать отдельные независимые службы защиты прав пациентов психоневрологических интернатов.
Мы попросили психиатра Надежду Соловьеву рассказать о том, что изменится с поправками в законе о ПНИ и в каких условиях содержатся пациенты интернатов.
Соловьева Надежда Валентиновна — создатель и генеральный директор Научного центра персонализированной психиатрии. Врач-психиатр Психиатрической больницы № 13 Департамента здравоохранения г. Москвы. Член Общественного совета по вопросам психического здоровья при главном психиатре-эксперте МЗ РФ. Руководитель Московского регионального отделения Российской психотерапевтической ассоциации.
— Мне жаль, что эту статью убрали. Я работаю с 1996 года, этот закон только-только набирал обороты. Основной дух этого закона заключался в том, что должна быть служба защиты прав. Что теперь взаимоотношения между людьми, которые должны получать психиатрическую помощь, и специалистами, которые ее оказывают, будут партнерскими. Этот дух партнерства, он пронизывал.
— Что вы думаете об изменениях в 46-й статье?
— Те поправки, которые сделали, — они вроде бы и ничего. Расширили 46-ю статью, которая позволит контролирующим органам защищать права пациентов, но эта защита будет уже с патерналистской модели, с точки зрения отеческой, то есть она будет не на равных, по типу «мы лучше знаем, как вам надо». Это ключевой момент, почему, собственно, общественные организации так остро реагируют. Пусть эта статья не работала все это время. На всех совещаниях в психиатрическом сообществе мы говорили, что надо, чтоб она работала.
— Скажите, как поправки отразятся на положении больных?
— Это будет зависеть от того, насколько будет реализована практика. Насколько добросовестно будут работать специалисты, насколько они будут стараться заботиться, а не злоупотреблять [полномочиями]. На мой взгляд, преград для злоупотреблений станет меньше, а люди, получающие помощь, будут более зависимы от специалистов. Хотя это зависит от человеческого фактора. Если человек, оказывающий помощь, не злоупотребляет, то всё будет хорошо.
— В каких условиях содержатся пациенты психоневрологических интернатов в России?
— Они содержатся в совершенно разных условиях, и всё зависит от того, насколько тот или иной представитель власти уделяет этому вопросу внимание. В регионах есть возможность игнорировать потребности проживающих в интернатах. И всё зависит от человеческого фактора — специалистов, которые оказывают помощь. В регионах очень сильно различаются условия в интернатах. У психиатров есть жаргонное слово «валежник». Будто больные — не люди.
— Можно ли сказать, что в Москве ситуация лучше?
— Москва стала выставлять стандарты своим учреждениям, которые приближены к желаемым. Например, московские интернаты переименовали в «социальные дома», что тоже важно, — это совершенно другое представление. В Москве также существует своя служба защиты людей. То есть каждый, кто проживает в интернате — социальном доме, — может позвонить, обратиться за помощью. Есть регламенты, которые говорят, что эта информация должна быть доступна. Если с упразднением 38-й статьи контролирующие органы начнут нормально функционировать, возможно будет поддерживать систему в нормальном режиме.
— Приходилось ли вам как-то сталкиваться с жалобами пациентов или их родных на условия содержания?
— Я могу рассказать то, что поразило меня в одном из региональных интернатов. Не хочу даже город называть... Мы приходили туда с проверкой. Всех больных красиво нарядили, они сидели в новых костюмчиках. Один мужчина лежал. Я подошла к нему узнать, почему же он лежит. А он просто смотрит на меня. Когда дотронулась до него, у него руки были как камень. Это специфический симптом в ответ на избыточное употребление нейролептиков, когда очень сильно повышается тонус мышц. Ему было очень тяжело двигаться.
Мы попросили его медицинскую карту. Оказалось, что он был заколот галоперидолом. Он получал его, по-моему, больше 20 лет без корректировки дозы. Я спросила у лечащего врача, навещают ли его родственники. Мне ответили, что мама когда-то приезжала, сейчас перестала приезжать. И никто даже не поинтересовался, куда она пропала. Вполне возможно, что она просто умерла. В медкарте не было описано никакой симптоматики. Я его посмотрела, взгляд ясный, разговаривает с большим трудом. Он заболел еще в армии. Он отучился — у него было образование. В интернате же его сковали, и он лишился возможности говорить.
До этого мы рассказывали историю Кости, который в 22 года попал в психиатрическую больницу для «коррекции поведения», а вернувшись домой, рассказал родителям жуткие вещи. Про то, как его обижали, не разрешали прогулки и — самое страшное — насиловали другие пациенты, попавшие в учреждение на освидетельствование как подозреваемые по различным делам.








